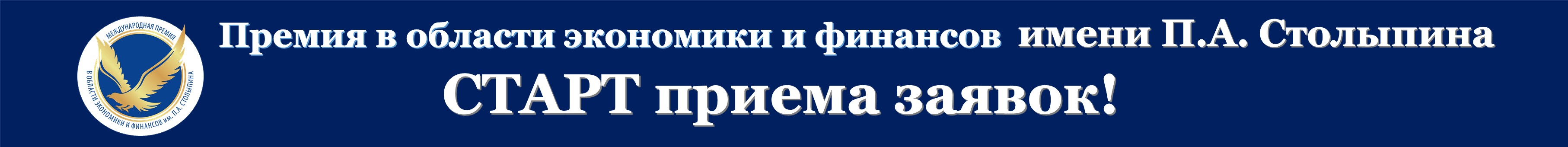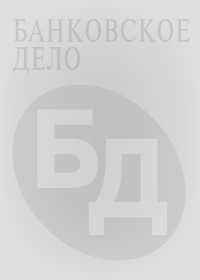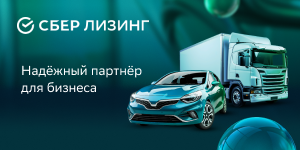В. В. МАСЛЕННИКОВ, доктор экономических наук, профессор, экономический эксперт. Достоверность прогнозов динамики ВВП при выработке Банком России денежно- кредитной политики: ретроспективный анализ.
В статье исследована проблема достоверности прогнозов
динамики ВВП, даваемых Банком России в Основных
направлениях денежно-кредитной политики за послед-
нее десятилетие. Установлено, что в условиях отсутствия
прямого для Банка России целеполагания экономическо-
го роста учет прогнозных значений динамики ВВП при
выработке денежно-кредитной политики остается одним
из немногих элементов, связывающих ее с интересами
развития национальной экономики. В статье выполнен
анализ достоверности прогнозов динамики ВВП и выяв-
лен их низкий уровень, который в рамках действующего
механизма выработки Банком России денежно-кредит-
ной политики приводит к ее еще более недостаточному
положительному влиянию на развитие национальной
экономики.
Изучение факторов и тенденций экономического роста – привлекательная тема для широкого круга исследователей. Такой интерес объективно обусловлен сильным влиянием уровня развития экономики страны на обеспечение социально-экономических условий жизни граждан, ее экономической безопасности, места в системе глобальной экономики. Важные компоненты таких исследований – оценка и прогнозирование экономического роста.
Как известно, одним из ключевых управляющих центров финансовой системы Российской Федерации является Банк России, не только обладающий широкими полномочиями по регулированию деятельности финансовых организаций, но также формирующий и непосредственно реализующий государственную денежно-кредитную политику (далее – ДКП). В связи с этим особый интерес представляет изучение подходов Банка России к вопросу о собственной роли в развитии национальной экономики, а также анализ сложившейся практики учета прогнозных значений динамики валового внутреннего продукта (далее – ВВП) при выработке ДКП.
Обзор литературы
Для целей настоящего исследования в качестве базы для анализа официальной позиции Банка России относительно собственной роли в обеспечении роста национальной экономики, а также прогнозных значений динамики ВВП были выбраны Основные направления денежно-кредитной политики (далее – ОНДКП), подготовленные Банком России и утвержденные Государственной Думой РФ в период с 2009 по 2024 г. [1–15]. Такой выбор обусловлен тем, что ОНДКП не только детально отражают позицию Банка России, но и в силу утверждения нижней палатой государственного парламента являются официальным документом, обладающим особым статусом. Вместе с тем несомненный интерес представляют и аналитические материалы, опубликованные сотрудниками Банка России, шире раскрывающие заложенные в ОНДКП смыслы.
Также при подготовке статьи были использованы труды отечественных и зарубежных ученых, в которых рассмотрены подходы к роли Банка России в развитии национальной экономики, а также модели прогнозирования ВВП.
Основная часть
В России исторически сложились две крайние точки зрения на роль Банка России в обеспечении роста национальной экономики. Первая состоит в необходимости проведения Банком России стимулирующей ДКП, его активного участия в обеспечении экономического роста, неприемлемости его сдерживания для достижения таргета по инфляции в 4%, допустимости и даже полезности целевой эмиссии Банком России для развития промышленности [16–19]. Вторая точка зрения заключается в невозможности непосредственного положительного влияния ДКП на инвестиционное развитие реального сектора экономики, а следовательно, и в ограниченности (опосредованности) вклада Центрального банка в создание условий для экономического роста. Под таким вкладом преимущественно понимается обеспечение ценовой стабильности. Такого подхода последовательно придерживается руководство Банка России: на протяжении длительного времени его официальная позиция в отношении собственной роли в развитии национальной экономики менялась малозаметно. Это наглядно характеризуется выдержками из ОНДКП разных лет:
■ основным инструментом влияния ДКП на экономику является ключевая ставка Банка России, уровень которой определяется с учетом необходимости обеспечить достижение цели по инфляции при сохранении условий для устойчивого развития экономики и поддержания финансовой стабильности на среднесрочном горизонте [6];
■ ДКП создает необходимые условия для устойчивого развития экономики, но сама по себе не может быть источником устойчивого повышения экономического потенциала [9, 10, 11, 12];
■ ценовая стабильность является необходимым условием трансформации и развития экономики, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста [13, 14];
■ ценовая стабильность – вклад Банка России в развитие экономики России, важнейший элемент благоприятной среды для жизни людей и ведения бизнеса. ДКП создает условия, необходимые для развития экономики, способствует ее структурной трансформации. Однако сама по себе ДКП не может обеспечить устойчивое повышение экономического потенциала [15].
В [20] на основе анализа ОНДКП-2023 [13] сделано вполне справедливое заключение, что ДКП не будет и впредь иметь прямого целеполагания решения важнейшей народнохозяйственной задачи достижения устойчивого экономического роста. В [21] по результатам рассмотрения ОНДКП-2024 [14] дан еще менее утешительный вывод: рестрикционная ДКП станет одним из факторов снижения инвестиционной активности и сдерживания экономического роста. Между приведенными выше двумя крайними точками зрения относительно роли Банка России в обеспечении развития национальной экономики находится широкий спектр научных подходов к вопросам построения системы взаимодействия Банка России и нефинансового сегмента национальной экономики. Достаточно сбалансированные подходы были высказаны в [17, 22–26]. В них раскрыты основные направления расширения участия Банка России в развитии экономики страны, повышения его ответственности за поддержание экономического роста, включая необходимость координации денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политик, решение проблемы обеспечения экономики длинными деньгами, расширение использования специальных инструментов банковского кредитования, а также стимулирующее влияние на экономический рост монетарного фактора при наличии источников роста – труда, капитала, технологий. Нельзя не упомянуть проблему возрастания роли цифровых финансовых активов, требующего корректировки методов и механизмов регулирования центральными банками денежно-кредитной сферы. Разностороннему исследованию данной темы посвящены многочисленные работы, включая [27–34].
Следует обратить внимание на распространенное заблуждение, которым идея введения режима таргетирования инфляции приписывается действующему на момент написания настоящей статьи руководству Банка России. Это далеко не так. Еще в 2009 г. Банк России в ОНДКП-2010 [1] заявлял о планируем переходе к режиму таргетирования инфляции и о развитии в связи с этим системы экономического прогнозирования, а также совершенствовании методов моделирования экономических процессов. Аналогичная позиция была высказана в ОНДКП -2011 [2] и в ОНДКП-2012 [3]. В 2013 г. в Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [35] была введена статья 34.1, согласно которой основной целью денежно-кредитной политики Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста. Впрочем, и до внесения изменений в закон Банк России заявлял (например, в ОНДКП-2010 [1]), что основной целью денежнокредитной политики является снижение инфляции и поддержание ее на уровне, обеспечивающем условия для долгосрочного устойчивого экономического роста. Таким образом, риторика Банка России длительное время базируется на постулате о косвенном влиянии Банка России на развитие национальной экономики и является законодательно подкрепленной. Начиная с 2015 г. Банк России при осуществлении ДКП официально реализует стратегию таргетирования инфляции. Изначально установленный таргет по инфляции составлял 4% и на протяжении 10 прошедших лет, вне зависимости от происходящих во внешней и внутренней среде изменений, не корректировался.
Именно посредством сужения зоны собственной ответственности лишь до регулирования инфляции Банк России самоустранился от активного влияния на инвестиционное развитие национальной экономики. Следует констатировать, что для него динамика ВВП – побочный эффект, всего лишь ограничивающий диапазон мер, используемых для управления инфляцией. Ограничение, но не цель. Такой подход наглядно проявился в недавнем последовательном повышении ключевой ставки до значений – запретительных не только для перспектив инвестиционного развития, но и для кредитования текущей деятельности предприятий реального сектора экономики. Как и следовало ожидать, попытки управлять инфляцией, в основе которой лежат преимущественно немонетарные факторы, крайне ограниченным используемым набором монетарных методов, являются в средне- и долгосрочной перспективе малоэффективными. Эффект, первоначально направленный на охлаждение рыночной части экономики, постепенно стал негативно проявляться и в ее государственном сегменте, что вызвало активную критику действий Банка России.
Под позицию самоустранения от активного участия в обеспечении экономического роста Банк России подводит собственную теоретическую основу. Так, в ОНДКП-2024 [14] Банком России постулируется, что национальная экономика в условиях таргетирования инфляции лучше абсорбирует внешние и внутренние экономические шоки по сравнению с режимами таргетирования отличных от инфляции макроэкономических показателей благодаря гибкости ДКП, усиливающей ее контрциклическую роль в экономике. Из приведенной цитаты следует, что меры, принимаемые Банком России в рамках реализации ДКП, должны выполнять стимулирующую функцию в период стагнации или рецессии и функцию ограничителя в период перегрева национальной экономики. Эта же идея другими словами: для экономики только лучше, если ее рост не является целью деятельности Банка России. Однако положительная роль формируемой и реализуемой Банком ДКП не столь очевидна. Так, например, в [36] на основе приведенных расчетов утверждается, что на практике таргетирование инфляции как метод политики в борьбе с инфляцией чаще сдерживало развитие российской экономики, чем способствовало ему.
В [14, 15] отмечается, что в рамках стратегии таргетирования инфляции Банк России придерживается ряда ключевых принципов ДКП, в том числе таких, как принятие решений по ДКП на основе макроэкономического прогноза и информационная открытость. Воздействие ДКП на экономику осуществляется через процентные ставки, а решения принимаются в первую очередь на основе прогноза развития экономики и динамики инфляции [4, 5]. В аналитическом докладе Банка России [37] также отмечается, что макроэкономический прогноз Банка России представляет собой целостную картину развития экономики в будущем, фрагменты которой согласованы между собой, а его подготовка является одним из важнейших этапов поддержки принятия решений в Банке России. Там же раскрыт механизм сценарного макроэкономического прогноза, включающий краткосрочное сценарное прогнозирование ВВП и его компонентов, а также среднесрочное прогнозирование компонентов ВВП. Результаты прогноза такого важного базового макроэкономического показателя, каким является прирост ВВП, непосредственно учитываются при разработке ОНДКП – документа стратегического уровня, определяющего тренды дальнейших тактических решений Банка России.
Высококачественные макроэкономические прогнозы – важнейший фактор принятия экономических решений при разработке соответствующей политики. Особую важность имеет как точность прогнозов, так и эффективность учета в них имеющейся информации [38]. В [39] отмечается, что информационная политика Центрального банка должна быть максимально открытой и прозрачной, что повысит эффективность управления ожиданиями экономических агентов; модельный аппарат, применяемый в Банке России в целях среднесрочного анализа и прогнозирования ключевых макроэкономических индикаторов, должен быть
понятен и доступен широкой общественности.
Обзор и описание моделей, используемых для прогнозирования ВВП, включая применяемые Банком России, содержатся в [37, 39–47]. Некоторые из этих публикаций выполнены сотрудниками Банка России и размещены на его официальном сайте. По мнению Банка России [14], такая открытость помогает формировать более предсказуемую среду для принятия решений. Он сам положительно оценивает свою деятельность в этом направлении, утверждая, что за годы таргетирования инфляции существенно возросла прозрачность проводимой Банком России ДКП, что способствовало росту доверия к ней. Таким образом, Банк России признает, что точное прогнозирование ВВП является важным элементом, непосредственно учитываемым при выработке ДКП на предстоящий и последующие годы, которая через прозрачную информационную политику Центрального банка влияет на управление ожиданиями экономических агентов. Следует добавить, что макроэкономические параметры, содержащиеся в ОНДКП, также влияют и на планы, вырабатываемые другими российскими ведомствами и министерствами.
Но так ли в действительности точны прогнозы ВВП, учитываемые Банком России при выработке ОНДКП? Результаты проведенного нами анализа совпадения прогнозов прироста ВВП, сформулированных Банком России в ОНДКП, свидетельствуют либо о имеющей место большой проблеме неточности прогнозов, либо об отсутствии информационной открытости в случае наличия у Банка России параллельных более корректных прогнозных расчетов для внутреннего (служебного) пользования. Впрочем, второй вариант не рассматриваем, полностью полагаясь на добросовестность практик Банка России. В табл. 1 приведены конкретные прогнозные значения динамики ВВП или их диапазоны из всех сценариев макроэкономического развития в предстоящем и последующих годах начиная с ОНДКП-2014 и вплоть до ОНДКП-2024 включительно [4–14]. Всего таких сценариев 35, из них 11 базовых и 24 альтернативных. Сценарии содержат 23 конкретных прогнозных значения и 69 их диапазонов (начиная с ОНДКП-2016 [6] Банк России стал приводить не конкретные прогнозируемые значения, а их диапазоны).
Ни одно из 5 конкретных прогнозных значений прироста ВВП на предстоящий год, обозначенных в сценарных вариантах макроэкономического прогноза Банка России в ОНДКП-2015 [5], не совпало с фактическим значением, и лишь 1 из 26 прогнозных диапазонов прироста ВВП на предстоящий год в остальных ОНДКП перекрыл его фактическое значение (ОНДКП-2019 [9]). При суммировании диапазонов всех сценарных вариантов на предстоящий год (от минимального прогнозного значения до максимального) результат прогнозирования улучшается незначительно – лишь до 2 случаев совпадений (ОНДКП-2016 [6] и ОНДКП-2019 [9]). Таким образом, в 8 случаях из 10 фактическая динамика экономического роста в предстоящем году оказалась за пределами всех сценарных расчетов, то есть за пределами предвидения Банка России. При этом в 5 случаях из 8 ошибочных фактические значения прироста ВВП были выше прогнозных, а в 3 случаях ниже. Следует отметить, что такое соотношение оптимистичных и пессимистичных ошибок отличает Банк России, например, от прогнозов ВВП, даваемых МВФ, в которых преобладают оптимистичные ошибки (62%) [37], то есть Банк России в своих прогнозах на предстоящий год охотнее занижает ожидаемый уровень ВВП. При этом все случаи завышения прогнозов приходятся на годы с отрицательной фактической динамикой ВВП, что по крайней мере оставляет открытым вопрос о недостаточной способности Банка России предвидеть развивающиеся кризисные явления либо о нежелании их предвосхищать. Факторы, лежащие в основе ошибок прогноза, применительно к США детально рассмотрены в [37], где сделан вывод о негативном влиянии чрезмерного оптимизма на темпы роста реального ВВП в следующем году. Выявленные закономерности вполне применимы и для Российской Федерации: оптимистичные прогнозы динамики ВВП в кризисные периоды в конечном счете снижают эффективность декларируемой Банком России контрциклической политики как раз в то время, когда экономика нуждается в дополнительном стимулировании. Данное наблюдение также подтверждается выводом, сделанным в [49] по итогам анализа накопительного эффекта ДКП для цели экономического роста в 2001– 2020 гг.: 13 лет эффект был отрицательным и лишь 7 лет положительным.
Суммированный по всем сценариям диапазон значений прогнозов динамики ВВП в предстоящем году составлял: в ОНДКП-2015 – 1,3%, в ОНДКП-2016 – 1,5%, в ОНДКП-2017 – 3,2%, в ОНДКП-2018 – 1,0%, в ОНДКП-2019 – 0,8%, в ОНДКП-2020 – 4,5%, в ОНДКП-2021 – 4,5%, в ОНДКП-2022 – 4,2%, в ОНДКП-2023 – 9,0%, в ОНДКП-2024 – 7,5% [5–14]. Как видно из приведенных значений диапазонов, в большинстве случаев они достаточно велики применительно к такому показателю, каким является прирост ВВП. При этом 2 случая, когда Банк России смог «охватить» предложенными диапазонами фактическое значение роста ВВП, приходились как раз на ОНДКП, в которых диапазоны были одними из самых узких: 1,5 и 0,8%. Столь же малоуспешными были попытки Банка России прогнозировать динамику ВВП и на последующие годы. В анализируемый период Банком России в ОНДКП в различных сценариях были приведены 18 конкретных прогнозных значений прироста ВВП в последующие годы и 43 их диапазона. Из 71 попытки спрогнозировать динамику ВВП на последующие годы 66 оказались неуспешными. Предложенный диапазон значений перекрыл фактическое значение прироста ВВП только в 5 случаях, из которых 4 случая относились к прогнозу на второй год, а 1 – на третий. Совпадения преимущественно носили случайный характер. Приведенный анализ осуществления прогнозов Банка России относительно предстоящей динамики ВВП свидетельствует о наличии серьезных проблем в среднесрочном прогнозировании. Однако не лучшим образом осуществляется прогнозирование и на сверхкороткую перспективу.
Как известно, окончательный вариант ОНДКП одобряется Советом директоров Банка России в конце октября – начале ноября (ОНДКП-2014 – 08.11.2013, ОНДКП-2015 – 06.11.2014, ОНДКП-2016 – 10.11.2015, ОНДКП-2017 – 11.11.2016, ОНДКП-2018 – 10.11.2017, ОНДКП-2019 – 26.10.2018, ОНДКП-2020 – 25.10.2019, ОНДКП-2021 – 05.11.2020, ОНДКП- 2022 – 09.11.2021, ОНДКП-2023 – 01.11.2022, ОНДКП-2024 – 01.11.2023 [4–14]). К этому времени Банк России уже располагает предварительными данными о динамике ВВП за первые три квартала текущего года и в ОНДКП осуществляет прогноз лишь на последний квартал текущего года. Только в 2 случаях из 10 (ОНДКП-2018 и ОНДКП-2020) фактическое значение прироста ВВП «попало» в прогнозный диапазон на текущий год, в том числе в 1 случае фактический прирост пришелся на верхнюю границу прогнозного диапазона. Тем самым сбываемость прогнозов Банка России относительно динамики ВВП на предстоящий последний квартал текущего года наблюдалась лишь в 20% случаев. Все 8 ошибок были пессимистичными. Такой низкий результат прогнозирования даже на трехмесячный срок, возможно, объясняет слабость прогнозов Банка России динамики ВВП на более длительные периоды – предстоящий и последующие годы.
В Банке России, видимо, осознают данную проблему, обращая в аналитических докладах [41, 42] внимание на проблемы с оперативным получением точной статистической информации: предварительная оценка индекса физического объема ВВП предоставляется Росстатом с задержкой в полтора месяца после окончания квартала. Результаты же среднесрочного прогнозирования в значительной степени зависят от оценок текущей макроэкономической ситуации, поскольку из-за лагов выхода статистики по отдельным макроэкономическим показателям и их относительно низкой частотности приходится оценивать не только текущее и будущее состояние экономической активности, но и динамику прошедших кварталов. Приведенный выше анализ свидетельствует о систематическом на протяжении длительного периода применении при формировании ОНДКП неточных прогнозных значений динамики ВВП в текущем, предстоящем и последующих годах, что с учетом использования данных прогнозных оценок при выработке ДКП снижает качество принимаемых решений.
ВЫВОДЫ
Банк России последовательно рассматривает задачи экономического развития как выходящие за пределы своей непосредственной ответственности, ограничивая собственную роль мерами по сохранению ценовой стабильности. Отказ от активного участия Банка России в непосредственном обеспечении развития национальной экономики обосновывается ведомством более высокой сравнительной эффективностью использования режима таргетирования инфляции (созданием общих условий для экономического роста), что подтверждено Банком России лишь общими логическими построениями.
Прогнозирование ВВП встроено в механизм разработки Банком России ДКП и является его важным элементом. В условиях отсутствия прямого для Банка России целеполагания экономического роста учет в ОНДКП прогнозов динамики ВВП остается практически единственным механизмом, связывающим интересы развития национальной экономики и ДКП. Проведенный в настоящей статье анализ показал, что как краткосрочные, так и среднесрочные прогнозы динамики ВВП, учитываемые Банком России при выработке ОНДКП, являются преимущественно ошибочными, не «угадывают» в большинстве случаев динамику ВВП даже при суммировании диапазонов ВВП по всем приведенным в ОНДКП макроэкономическим сценариям.
Низкая точность прогнозирования Центральным банком динамики ВВП на протяжении длительного периода отражает его недостаточное внимание к интересам развития национальной экономики, ухудшает возможности координации его деятельности с другими государственными ведомствами и министерствами в вопросах обеспечения экономического роста, а также снижает общий уровень доверия к Банку России.
Представляется целесообразным провести дальнейшие исследования по оценке точности прогнозирования Банком России динамики других макроэкономических показателей, включая такие как инфляция, ключевая ставка, денежная масса, а также показателей платежного баланса. На основе проведенного анализа представляется полезным провести комплексную оценку точности прогнозов Банка России, используемых для выработки денежно-кредитной политики.
Список литературы
1. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2010 год и период 2011 и 2012 годов [Электронный ресурс] / Банк России. – URL: https://cbr.ru/content/document/file/87377/on_2010(2011-2012).pdf.
2. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2011 год и период 2012 и 2013 годов [Электронный ресурс] / Банк России. – URL: https://cbr.ru/content/document/file/87376/on_2011(2012-2013).pdf.
3. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2012 год и период 2014 и 2014 годов [Электронный ресурс] / Банк России. – URL: https://cbr.ru/content/document/file/87375/on_2012(2013-2014).pdf.
4. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2014 год и период 2015 и 2016 годов [Электронный ресурс] / Банк России. – URL: https://cbr.ru/content/document/file/87373/on_2014(2015-2016).pdf.
5. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов [Электронный ресурс] / Банк России. – URL: https://cbr.ru/content/document/file/87372/on_2015(2016-2017).pdf.
6. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов [Электронный ресурс] / Банк России. – URL: https://cbr.ru/content/document/file/87371/on_2016(2017-2018).pdf.
7. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов [Электронный ресурс] / Банк России. – URL: https://cbr.ru/content/document/file/87369/on_2017(2018-2019).pdf.
8. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов [Электронный ресурс] / Банк России. – URL: https://cbr.ru/content/document/file/87367/on_2018(2019-2020).pdf.
9. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов [Электронный ресурс] / Банк России. – URL: https://cbr.ru/content/document/file/87362/on_2019(2020-2021).pdf.
10. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов [Электронный ресурс] / Банк России. – URL: https://cbr.ru/content/document/file/112392/on_2020(2021-2022).pdf.
11. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов [Электронный ресурс] / Банк России. – URL: https://cbr.ru/content/document/file/87358/on_2021(2022-2023).pdf.
12. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов [Электронный ресурс] / Банк России. – URL: https://cbr.ru/content/document/file/126064/on_project_2022(2023-2024).pdf.
13. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов [Электронный ресурс] / Банк России. – URL: https://cbr.ru/content/document/file/139691/on_2023(2024-2025).pdf.
14. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов [Электронный ресурс] / Банк России. – URL: https://cbr.ru/content/document/file/150582/on_2024(2025-2026).pdf.
15. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов [Электронный ресурс] / Банк России. – URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/164702/on_2025(2026-2027).pdf.
16. Глазьев С. Ю. Как денежно-кредитная политика угнетает экономический рост в России и Евразийском экономическом союзе // Российский экономический журнал. 2022. № 2. С. 4–20.
17. Теняков И. М. Российская специфика факторов экономического роста: опыт эконометрического моделирования. // Экономическая наука современной России. 2018. № 3 (82). С. 22–34.
18. Цветков В. А., Сухарев О. С. Экономический рост России: новая модель управления. – М. : Ленанд, 2017.
19. Глазьев С. Ю. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития : доклад. М. : Институт экономических стратегий ; Русский биографический институт, 2015. – 60 с. [Электронный ресурс] / glazev.ru. – URL: https://glazev.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2015-2-1.pdf
20. Абрамова М. А., Дубова С. Е., Ларионова И. В., Ершов М. В., Захарова О. В., Зеленева Е. С., Пищик В. Я. Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов: мнение экспертов Финансового университета // Экономика. Налоги. Право. 2023. Т. 16. № 1. С. 6–21. – DOI: 10.26794/1999-849X‑2023-16-1-6-21.
21. Абрамова М. А., Дубова С. Е., Диденко В. Ю., Ершов М. В., Захарова О. В., Зеленева Е. С., Ларионова И. В., Пищик В. Я. Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов: мнение экспертов Финансового университета //Экономика. Налоги. Право. 2024. Т 17. № 1. С. 6–22. – DOI: 10.26794/1999-849X2024-17-1-6-22.
22. Ершов М. В., Танасова А. С. Новая центробанковская трехлетка в контексте главных проблем российской экономики (о проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022–2023 годов» Банка России) // Российский экономический журнал. 2021. № 2. С. 33–44. – DOI: 10.33983/0130-9757-2021-2-33-44.
23. Абрамова М. А., Дубова С. Е., Ершов М. В., Захарова О. В., Звонова Е. А., Зеленева Е. С., Масленников В. В., Пищик В. Я. Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов: мнение экспертов Финансового университета //Экономика. Налоги. Право. 2022. Т. 15. № 1. С. 6–22.
24. Абрамова М. А., Дубова С. Е., Ершов М. В., Звонова Е. А., Масленников В. В., Пищик В. Я. Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов: мнение экспертов Финансового университета // Экономика. Налоги. Право. 2021.№ 14. С. 6–16.
25. Абрамова М. А., Дубова С. Е., Звонова Е. А., Лаврушин О. И., Масленников В. В. Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов: мнение экспертов Финансового университета // Экономика. Налоги. Право. 2020. № 13. С. 6–19.
26. Абрамова М. А., Дубова С. Е., Звонова Е. А., Ларионова И. В., Масленников В. В. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 г. и период 2019 и 2020 гг.: мнение экспертов Финансового университета // Экономика. Налоги. Право. 2018. № 11. С. 6–20. – DOI: 10.26794/1999-849X-2018-11-1-6-20.
27. Mikhaylov A., Bhatti M. I. M. The link between DFA portfolio performance, AI financial management, GDP, government bonds growth and DFA trade volumes // Quality and Quantity. – DOI: 10.1007/s11135-024-01940-8.
28. Development of Friedrich von Hayek's theory of private money and economic implications for digital currencies // Terra Economicus. № 19(1). P. 53–62. – DOI: 10.18522/2073-6606-2021-19-1-53-62.
29. Эскиндаров М. А., Масленников В. В., Масленников О. В. Риски и шансы цифровой экономики в России // Финансы: теория и практика. 2019. Т. 23. № 5 (113). С. 6–17. – DOI: 10.26794/2587-5671-2018-23-5-6-17.
30. Масленников В. В., Ларионов А. В. Цифровые валюты: концептуализация рисков и возможности регулирования // Мир новой экономики. 2021. Т. 15. № 4. С. 16–28. – DOI: 10.26794/2220-6469-2021-15-4-16-28.
31. Масленников В. В., Федотова М. А., Сорокин А. Н. Новые финансовые технологии меняют наш мир // Вестник Финансового университета. 2017. Т. 21. № 2 (98). С. 6–11.
32. Эскиндаров М. А., Абрамова М. А., Масленников В. В., Амосова Н. А., Варнавский А. В., Дубова С. Е., Звонова Е. А., Криворучко С. В., Лопатин В. А., Пищик В. Я., Рудакова О. С., Ручкина Г. Ф., Славин Б. Б.,
Федотова М. А. Направления развития финтеха в России: экспертное мнение Финансового университета // Мир новой экономики. 2018. Т. 12. № 2. С. 6–23. – DOI: 10.26794/2220-6469-2018-12-2-6-23.
33. Абрамова М. А., Фиапшев А. Б. Цифровизация монетарной сферы: развитие defi и введение цифрового рубля // Банковские услуги. 2024. № 11. С. 15–24. – DOI: 10.36992/2075-1915_2024_11_15.
34. Абрамова М. А., Дубова С. Е. Турбулентность угроз финансовой стабильности в новых реалиях развития денежной и платежной систем // Банковские услуги. 2022. № 7. С. 9–18. – DOI:10.36992/2075-1915_2022_7_9.
35. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [Электронный ресурс] / Президент России. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/18296.
36. Сухарев О. С., Ворончихина Е. Н. Таргетирование инфляции: элиминирование экономического роста и структурная деформация в России // Финансы: теория и практика. 2024. Т. 28 № 1.
37. Могилат А., Селезнев С., Жабина С. О подготовке сценарного макроэкономического прогноза и модельном аппарате Банка России [Электронный ресурс] / Банк России. Серия докладов об экономических исследованиях. 2021. – URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/118793/inf_note_mar_0521.pdf.
38. Чаттерджи П., Новак С. Ошибки прогнозирования и шоки неопределенности // Вестник международных организаций. 2017. Т. 12. № 2.
39. Поршаков А., Пономаренко А., Синяков А. Оценка и прогнозирование ВВП России с помощью динамической факторной модели // Журнал Новой экономической ассоциации. 2016. № 2 (30). С. 60–76.
40. Поршаков А., Дерюгина Е., Пономаренко А., Синяков А. Краткосрочное оценивание и прогнозирование ВВП России с помощью динамической факторной модели [Электронный ресурс] / Банк России. Серия докладов об экономических исследованиях. 2015. – URL: https://cbr.ru/content/document/file/16739/wps_2.pdf.
41. Жемков М. Краткосрочная оценка ВВП России методом комбинирования прогнозов [Электронный ресурс] / Банк России. Серия докладов об экономических исследованиях. 2021. – URL: https://cbr. ru/StaticHtml/File/118606/wp-feb21.pdf.
42. Ачкасов Ю. Модель оценивания ВВП России на основе текущей статистики: модификация подхода [Электронный ресурс] / Банк России. Серия докладов об экономических исследованиях. 2016. – URL: https://cbr.ru/content/document/file/16732/wps_8.pdf.
43. Микош Х., Соланко Л. Прогнозирование роста российского ВВП с использованием данных со смешанной периодичностью [Электронный ресурс] // Деньги и кредит. 2019. Т. 78. № 1. С. 19–35. – URL: https://rjmf.econs.online/upload/iblock/214/RJMF_78-01_RUS_Mikosch.pdf.
44. Стырин К., Потапова В., Моисеев А. Опережающий индикатор ВВП РенКап-РЭШ : аналитический доклад. 2009 [Электронный ресурс] / Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант, 10 февраля 2009 г. – URL: http://st.finam.ru/ipo/comments/_Leading_GDP_Indicator_10Feb10.pdf.
45. Могилат А. Н. Обзор основных каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и инструментов их анализа в Банке России // Деньги и кредит. 2017. № 9. С. 3–9.
46. Крупкина А. С., Виноградова О. С., Орлова Е. А., Ершова Е. Н. Прогнозирование ВВП России производственным методом // Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. 2022. № 5. С. 62–80.
47. Лазарян С. С., Герман Н. Е. Прогнозирование текущей динамики ВВП на основе данных поисковых запросов // Финансовый журнал / Financial Journal. 2018. № 6. С. 83–94. – DOI:10.31107/2075-1990-2018-6-83-94.
48. Встреча с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным [Электронный ресурс] / Президент России. – URL: https://www.kremlin.ru/events/president/news/76227.
49. Глазьев С. Ю., Сухарев О. С., Афанасьева О. Н. Монетарная политика России: негативный накопительный эффект в рамках неоклассической модели и его преодоление // Микроэкономика. 2022.№ 2. С. 5–38.